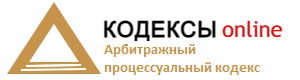КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 27 декабря 2023 г. N 3542-О
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА
КАЛИНОГОРСКОГО НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ РЯДОМ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА"
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей А.Ю. Бушева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, М.Б. Лобова, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, В.А. Сивицкого,
рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина Н.А. Калиногорского к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. Гражданин Н.А. Калиногорский оспаривает конституционность пункта 8 статьи 4.1 "Функционирование органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", статьи 5 "Определение границ зон чрезвычайных ситуаций и зон экстренного оповещения населения", подпункта "в" статьи 10 "Полномочия Правительства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", подпункта "т" пункта 1 и подпункта "о" пункта 2 статьи 11 "Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Названные законоположения оспариваются заявителем во взаимосвязи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", абзацем четвертым пункта 5 Порядка сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года N 334) и позицией 1.4.2 Критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (приложение к приказу МЧС России от 5 июля 2021 года N 429).
Из представленных материалов следует, что решением суда общей юрисдикции, с которым согласились суды вышестоящих инстанций, заявителю отказано в удовлетворении его требования к ряду уполномоченных органов и должностных лиц о признании незаконным бездействия, выразившегося в том, что на определенных территориях не был введен режим чрезвычайной ситуации, а также об обязании административных ответчиков установить такой режим на определенных территориях. Как указали суды, действующим законодательством не предусмотрен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наступлении которых уполномоченные должностные лица обязаны вводить режим чрезвычайного положения на определенной территории. Кроме того, суды отметили, что заявитель не представил доказательств случившегося события, подпадающего под признаки чрезвычайной ситуации, наличия причинно-следственной связи между ростом заболеваний и функционированием на определенной территории ряда промышленных предприятий.
По мнению заявителя, оспариваемые нормы позволяют уполномоченным органам и должностным лицам произвольно разрешать вопрос о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации, что противоречит статьям 41 (части 1 и 2) и 42 Конституции Российской Федерации.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
В Постановлении от 25 декабря 2020 года N 49-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в силу Конституции Российской Федерации (статьи 2, 7 и 41) жизнь и здоровье человека - высшее благо, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности, а потому забота об их сохранении и укреплении образует одну из основополагающих конституционных обязанностей государства.
Ранее Конституционный Суд Российской Федерации также неоднократно указывал, что Конституция Российской Федерации, в том числе ее статьи 17 (часть 3), 19, 55 (части 2 и 3) и 56 (часть 3), допускает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина лишь в целях защиты конституционно значимых ценностей при справедливом соотношении публичных и частных интересов, при этом устанавливаемые федеральным законом средства и способы такой защиты должны быть обусловлены ее целями и способны обеспечить их достижение, исключая умаление и несоразмерное ограничение соответствующих прав и свобод; таким же критериям должны соответствовать и подзаконные нормативные акты, принятые в том числе в экстраординарной ситуации в порядке исполнения Конституции Российской Федерации и федерального закона (постановления от 18 февраля 2000 года N 3-П, от 14 ноября 2005 года N 10-П, от 26 декабря 2005 года N 14-П, от 16 июля 2008 года N 9-П, от 7 июня 2012 года N 14-П и от 17 февраля 2016 года N 5-П).
Правовым актом, определяющим общие организационно-правовые нормы в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, является Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", действие которого распространяется на отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы и населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (преамбула).
Разграничивая полномочия Российской Федерации и ее субъектов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, названный Федеральный закон предусматривает, что региональные органы государственной власти принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (подпункты "а", "м" пункта 1 статьи 11).
Оспариваемые заявителем нормы Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" определяют полномочия и особенности функционирования органов государственной власти и местного самоуправления в случае введения режима чрезвычайной ситуации на определенной территории. Данное регулирование как само по себе, так и во взаимосвязи с иными нормами не может рассматриваться, как нарушающее конституционные права Н.А. Калиногорского в обозначенном в жалобе аспекте, тем более что суды, отказывая ему в удовлетворении заявленных требований, указали среди прочего на недоказанность события, подпадающего под признаки чрезвычайной ситуации.
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Калиногорского Николая Алексеевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д.ЗОРЬКИН