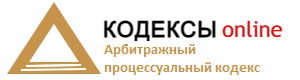[неофициальный перевод] < 1 >
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ
ДЕЛО "ПЛОХОВЫ (PLOKHOVY) ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" < 1 >
(Жалоба N 45024/07)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ < 2 >
(Страсбург, 22 декабря 2020 года)
< 1 > Перевод с английского ООО "Развитие правовых систем".
< 2 > Настоящее Постановление вступило в силу 22 марта 2021 г. в соответствии с положениями пункта 2 статьи 44 Конвенции (примеч. редактора).
По делу "Плоховы против Российской Федерации" Европейский Суд по правам человека (Третья Секция), заседая Палатой в составе:
Пауля Лемменса, Председателя Палаты Суда,
Георгия А. Сергидеса,
Дмитрия Дедова,
Жоржа Раварани,
Марии Элосеги,
Дариана Павли,
Пеэтера Роосма, судей,
а также при участии Милана Блашко, Секретаря Секции Суда,
принимая во внимание:
жалобу (N 45024/07), поданную 24 сентября 2007 г. против Российской Федерации в Европейский Суд по правам человека (далее - Европейский Суд) в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция) двумя гражданами Российской Федерации Татьяной Александровной Плоховой и Владимиром Михайловичем Плоховым (далее - заявители);
решение официально уведомить власти Российской Федерации о жалобах в рамках статей 2, 3 и 13 Конвенции, касающихся смерти сына заявителей в период прохождения им военной службы и на отсутствие эффективного расследования в этом отношении;
доводы сторон;
рассмотрев дело в закрытом заседании 1 декабря 2020 г.,
вынес в указанный день следующее Постановление:
ВВЕДЕНИЕ
1. Дело касается смерти сына заявителей от заболевания, развившегося у него в ходе прохождения им обязательной военной службы, и отсутствия эффективного расследования в этом отношении.
ФАКТЫ
2. Оба заявителя родились в 1959 году и проживают в г. Санкт-Петербурге. Интересы заявителей представляли юристы Межрегиональной организации по защите прав военнослужащих < 3 > М. Носова, М. Береза, С. Семушин, Л. Жукова, а также адвокат адвокатского бюро "Онегин" Д. Бартенев, практикующий в г. Санкт-Петербурге.
< 3 > По-видимому, речь идет о правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" (примеч. переводчика).
3. Власти Российской Федерации первоначально были представлены Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде Г.О. Матюшкиным, а затем его преемником в этой должности - М.Л. Гальпериным.
4. Факты дела, как они представлены сторонами, могут быть изложены следующим образом.
I. ПРИЗЫВ СЫНА ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
5. 17 мая 2004 г. сын заявителей, Максим Плохов, был призван в ряды Вооруженных сил. Он проходил службу в разведывательной роте войсковой части N 02511 в поселке Каменка Ленинградской области.
6. По словам заявителей, до призыва на военную службу их сын не страдал какими-либо заболеваниями. По результатам осмотра военно-врачебной комиссией после его призыва для прохождения обязательной военной службы он был признан "здоровым и годным к военной службе без ограничений". В течение первого года военной службы у сына заявителей был диагностирован, среди прочего, гастрит, и он получал лечение от данного заболевания.
II. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И СМЕРТЬ
A. Медицинская помощь в войсковой части N 02511
7. В начале августа 2005 года разведывательная рота находилась на полевых учениях. Через несколько дней сын заявителей пожаловался старшему лейтенанту О. на резкие боли в животе и попросил, чтобы его отправили к врачу. Старший лейтенант О. не дал разрешения на это, посчитав, что сын заявителей симулировал болезнь, поскольку не хотел проходить военную службу.
8. 29 августа 2005 г., страдая от сильных болей в левом подреберье, отсутствия аппетита, рвоты и жидкого стула, сын заявителей вновь обратился с просьбой направить его в медицинскую роту при воинской части. На этот раз просьба была адресована командиру взвода старшему лейтенанту П. Однако только 3 сентября 2005 г., когда здоровье сына заявителей резко ухудшилось, он был направлен в медицинскую роту войсковой части N 02511.
9. 3 и 5 сентября 2005 г. врачи М. и С. диагностировали у сына заявителей острый приступ хронического гастрита. Из его истории болезни также следовало, что он был болен уже в течение трех дней. По-видимому, было предписано взять анализы крови и мочи, а также провести гастродуоденоскопию, но этого не было сделано.
10. 10 сентября 2005 г., пока сын заявителей находился в медицинской роте, при подъеме произошла драка между ним и другим военнослужащим Д. Объяснение сына заявителей, написанное им от руки в тот же день, гласит:
"В отношении черепно-мозговой травмы [и] ушиба почки [сын заявителей поясняет], что в 7.30-8.00 [я] не встал при подъеме, и Д. нанес мне пять ударов: четыре удара по почкам и один - по голове. После этого [у меня] начались головные боли, а в моче появилась кровь. Всю ответственность несет военнослужащий Д.".
11. Сын заявителей дал аналогичные показания капитану медицинской роты Б. Согласно его показаниям, записанным капитаном Б. и адресованным командиру медицинской роты, у сына заявителей началась рвота, и он стал испытывать острую боль в правом боку.
12. Согласно показаниям Д. по поводу указанных событий 9 сентября 2005 г., согласившись на просьбу сына заявителей, он разрешил ему нести ночное дежурство, поскольку сын заявителей чувствовал себя плохо и не хотел проводить всю ночь, бегая из больничной палаты в уборную. Утром Д. обнаружил, что сын заявителей спит в своей постели. В ответ на требование Д. встать сын заявителей попросил, чтобы его оставили в покое, так как он хотел спать. Поскольку сын заявителей игнорировал требования Д. и использовал ненормативную лексику, Д. был вынужден стащить его с кровати. В ходе небольшой драки Д. дважды легко ударил сына заявителей в правую поясничную область. После завтрака сын заявителей вернулся в постель, а во второй половине дня был доставлен в больницу.
13. Около полудня 10 сентября 2005 г. сын заявителей пожаловался своему лечащему врачу К. на постоянные боли в животе, головокружение, частую рвоту и жидкий стул. Врач прощупал его живот и поясничную область и отметил, что он испытывает боль с обеих сторон поясничной области. В моче сына заявителей также было обнаружено большое количество крови. Сыну заявителей был поставлен следующий диагноз: "ушиб мягких тканей правой поясничной области, ушиб правой почки, забрюшинная гематома, редкое мочеиспускание, почечная недостаточность, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, отек головного мозга и двусторонняя гипостатическая пневмония".
14. В связи с ухудшением состояния здоровья сына заявителей около 19.00 врач К. доставил его на своем личном автомобиле до контрольно-пропускного пункта Выборгского гарнизонного военного госпиталя. От ворот госпиталя до приемного отделения сын заявителей шел пешком.
B. Выборгский гарнизонный военный госпиталь
15. После госпитализации в Выборгский гарнизонный военный госпиталь сына заявителей осмотрел хирург, который оценил состояние его здоровья как состояние средней степени тяжести. Проведенное в тот же день ультразвуковое исследование подтвердило наличие у него ушибов мягких тканей поясничной области и правой почки. Кроме того, врачи обнаружили наличие жидкости в брюшной полости, диффузные изменения почек и увеличение размера печени. Возможность травматического характера ушиба почки не исключалась.
16. 11 сентября 2005 г. начальник военного госпиталя осмотрел сына заявителей и подтвердил диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Он также зафиксировал гематому на правой щеке сына заявителей. Днем консилиум врачей в составе начальника госпиталя, главного хирурга и врача-ординатора осмотрели сына заявителей и оценили состояние его здоровья как состояние средней степени тяжести, в результате чего он был помещен в реанимационное отделение, где проводились инфузионная, гемостатическая, антибактериальная терапия, а также диагностическая лапароскопия. Врачи пришли к выводу о том, что состояние здоровья сына заявителей демонстрировало отрицательную динамику ввиду нарастающих явлений почечной недостаточности, появления четких симптомов отека головного мозга и гиперкалиемии. Были утверждены план лечения сына заявителей и перечень медицинских процедур.
17. 12 сентября 2005 г. ввиду продолжающегося ухудшения состояния сына заявителей на реанимобиле доставили в Окружной военный клинический госпиталь N 442 в г. Санкт-Петербурге (далее - Окружной госпиталь N 442) для уточнения диагноза и дальнейшего лечения.
C. Окружной госпиталь N 442
18. При поступлении в Окружной госпиталь N 442 состояние здоровья сына заявителей оценивалось как крайне тяжелое. Он был без сознания. Визуальный осмотр выявил наличие обширной гематомы на левой поясничной области, множественных диапедезных кровоизлияний в коже, голубоватого кровоподтека под правым глазом, желтоватого кровоподтека на передней области шеи и ссадин на передней поверхности обеих голеней.
19. В 18.30 того же дня консилиум врачей в составе главного хирурга, главного анестезиолога, заведующего нейрохирургическим отделением, заведующего отделением гемодиализа и других врачей-специалистов провел совещание в целях обсуждения дальнейших действий. Сын заявителей находился в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких. По итогам совещания врачи поставили предварительный диагноз: "тяжелые сочетанные травмы головы и живота, закрытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, ушибы мягких тканей головы, закрытая травма живота, ушиб почки, ушибы мягких тканей поясничной области, множественные травмы на груди и на ногах, полиорганная недостаточность, сопровождаемая острой почечной недостаточностью, двусторонняя пневмония, отравление неизвестным токсином и токсическая энцефалопатия [нарушение работы головного мозга]".
20. Через два часа у сына заявителей взяли анализы на наличие этанола и этиленгликоля в качестве возможных ядов. Результаты анализов оказались отрицательными. Однако лаборант, который проводил анализы, в своем отчете отметил, что, несмотря на отсутствие следов обоих ядов в теле сына заявителей, необходимо учитывать тот факт, что анализы проводились спустя более двух дней после возможного отравления.
21. 14 сентября 2005 г. вторая врачебная комиссия в составе, среди прочих лиц, начальника госпиталя, хирурга, реаниматолога и специалиста по инфекционным заболеваниям осмотрела сына заявителей, сделав компьютерную томографию (далее - снимки КТ) его головы, брюшной и грудной полостей. На момент обследования пациент находился в искусственной коме. Врачебная комиссия поставила следующий диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные ушибы груди, ног и мягких тканей поясничной области, ушибы обеих почек, синдром нефрита (воспаления почек), острая почечная недостаточность в стадии анурии (отсутствия мочеиспускания), полиорганная недостаточность, полисерозит (воспаление серозных оболочек с выделениями), возможное острое и тяжелое пероральное отравление нефротоксичным веществом и токсическая энцефалопатия.
22. Сын заявителей был переведен в палату интенсивной терапии отделения нефрологии госпиталя. Он получал лечение гемодиализом и гормонами.
23. 19 сентября 2005 г. в 10.00 у сына заявителей остановилось сердце. Время смерти было зафиксировано в тот же день в 10.40. Посмертный диагноз, поставленный госпиталем, гласил:
"Основное заболевание: тяжелые сочетанные травмы головы и живота, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибы мягких тканей головы и поясничной области, забрюшинная гематома [и] ушиб почки.
Осложнения основного заболевания: острая полиорганная недостаточность, энцефалопатия смешанного генеза, миокардиодистрофия, отек головного мозга, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, острая надпочечниковая недостаточность, двусторонняя гипостатическая пневмония и синдром острой дыхательной недостаточности.
Сопутствующие заболевания: язва в стадии ремиссии, незначительная рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки".
24. 22 сентября 2005 г. заявительница получила уведомление о смерти сына.
III. ВНУТРЕННЯЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СМЕРТЬЮ СЫНА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
A. Меры дисциплинарного взыскания
25. 16 сентября 2005 г. заместитель командира войсковой части N 02511 полковник Ш. завершил внутреннюю проверку по факту событий, связанных с поступлением сына заявителей в медицинскую роту 3 сентября 2005 г. Изучив историю болезни сына заявителей и допросив солдат, служивших в войсковой части N 02511, которые показали, что в течение нескольких дней во время полевых учений сын заявителей отказывался есть что-либо, кроме хлеба, не мыл свои столовые приборы после использования, выражал сильное желание попасть в больницу и считал военную службу обременительной, полковник пришел к выводу о том, что причинами тяжелого заболевания сына заявителей и его избиения в госпитале стали: плохая организация военной службы в разведывательной роте под командованием капитана О.; отсутствие надлежащего руководства солдатами со стороны их командиров; плохая организация работы медицинской роты при войсковой части N 02511.
26. Полковник предложил возбудить дисциплинарное производство в отношении медицинского персонала воинской части, отправить капитана О. в отставку и возбудить уголовное дело по факту избиения сына заявителей.
27. 4 октября 2005 г. заместитель военного прокурора Выборгского гарнизона вынес два одинаковых письменных предупреждения в адрес капитана О. и командира взвода старшего лейтенанта П. Предупреждение гласило:
"В ходе внутренней проверки было установлено, что 3 сентября 2005 г. [сын заявителей] был принят на лечение в медицинскую роту войсковой части N 02511 с диагнозом "хронический гастрит в острой стадии".
В результате внутренней проверки органами прокуратуры было установлено, что, помимо личной халатности со стороны [сына заявителей], который не заботился о своем здоровье (отказывался принимать пищу) в нарушение статьи 334 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, имело место нарушение требований законодательства со стороны [капитана О./командира взвода старшего лейтенанта П.], который... узнав о том, что [сын заявителей] отказывается от еды, не установил причину таких действий и не выяснил, был ли [сын заявителей] болен и имелась ли необходимость в оказании срочной медицинской помощи. Таким образом, [он] не принял своевременных мер по охране здоровья [сына заявителей]. [Сын заявителей] был принят на лечение в медицинскую роту войсковой части N 02511 только после острого приступа болезни. Это обстоятельство свидетельствует о ненадлежащем исполнении офицером своих служебных обязанностей по охране жизни и здоровья солдат.
Во избежание возможных нарушений необходимо предупредить вышеупомянутое должностное лицо о недопустимости нарушений законодательства".
B. Уголовное производство
1. Начальные стадии уголовного производства
28. 19 сентября 2005 г. военный прокурор возбудил уголовное дело по статье 335 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности) в связи с инцидентом 10 сентября 2005 г. с участием сына заявителей и Д. В тот же день следователь, которому было поручено ведение дела, допросил врача К., дежурившего 10 сентября 2005 г. Последний показал, что сын заявителей сообщил ему о драке с Д. и пожаловался на боли в животе. Заметив покраснение на спине сына заявителей и обнаружив кровь в его моче, врач К. отвез его в Выборгский гарнизонный военный госпиталь на своем личном автомобиле, так как других автомобилей не было.
29. 20 сентября 2005 г. на основании постановления военного прокурора военные эксперты произвели вскрытие трупа сына заявителей.
30. 4 октября 2005 г. заявительница была признана потерпевшей по уголовному делу об избиении ее сына военнослужащим Д.
(a) Протокол вскрытия N 56/05
31. 5 октября 2005 г. эксперты вынесли заключение N 56/05, определив, что причиной смерти сына заявителей послужил острый нефрит (заболевание почек) в сочетании с двусторонней пневмонией и острой почечной недостаточностью. Эксперты отметили, что такое заболевание почек обычно развивается после инфекции. Они не обнаружили каких-либо повреждений на теле сына заявителей, кроме старых шрамов на голенях и двух ссадин на коленях, которые, скорее всего, возникли в результате геморрагического синдрома. В то же время, изучив медицинские документы, в которых была зафиксирована гематома под правым глазом сына заявителей и ушиб мягких тканей переносицы, эксперты пришли к выводу о том, что указанные травмы не имели причинно-следственной связи со смертью сына заявителей и были нанесены твердым тупым предметом 10 сентября 2005 г.
32. Эксперты также отметили, что закрытая травма живота, ушибы правой почки и передней брюшной стенки, ушибы мягких тканей правой поясничной области, а также забрюшинная гематома, которые были диагностированы в ходе медицинских обследований, когда сын заявителей был еще жив, не подтверждались "объективными медицинскими данными, данными инструментального и хирургического анализа, результатами вскрытия трупа и гистологическими данными".
33. Кроме того, эксперты установили, что клинические симптомы головных болей, рвоты, нарушения координации движений и другие неврологические симптомы, которые проявились у сына заявителей и были диагностированы медицинскими специалистами сначала как сотрясение мозга, а затем, когда состояние здоровья сына заявителей ухудшилось, как ушиб головного мозга и черепно-мозговая травма, возникли в результате развития отека головного мозга и вторичного кровоизлияния в ствол головного мозга.
34. Наконец, эксперты сочли, что вследствие противоречивой информации, содержащейся в истории болезни сына заявителей, они не могли с уверенностью определить источник обширной гематомы в левой части поясничной области, желтоватого кровоподтека на передней области шеи и травм на передней поверхности обеих голеней.
(b) Заключение судебно-медицинской экспертизы от 2 ноября 2005 г.
35. 2 ноября 2005 г. врачебная комиссия в составе ряда ведущих военных медицинских специалистов, в том числе начальника Окружного госпиталя N 442 и судебно-медицинского эксперта, участвовавшего в проведении вскрытия, провела совещание, посвященное исследованию причин смерти сына заявителей. Врачебная комиссия выявила следующие недостатки в лечении сына заявителей на различных этапах.
36. Во-первых, что касается периода, предшествовавшего его госпитализации в Выборгский гарнизонный военный госпиталь, то врачебная комиссия установила неспособность диагностировать основное заболевание вследствие ненадлежащей квалификации медицинского персонала, который оказывал помощь сыну заявителей, а также вследствие неполного обследования сына заявителей, в частности отсутствия общих анализов крови, мочи и так далее. Врачебная комиссия пришла к выводу о том, что указанные недостатки явились сопутствующими факторами, которые привели к смерти сына заявителей.
37. Кроме того, что касается периода нахождения сына заявителей в Выборгском гарнизонном военном госпитале, то врачебная комиссия установила неспособность диагностировать основное заболевание ввиду объективных трудностей постановки диагноза, связанных с тяжестью состояния пациента и его кратковременным (менее двух дней) пребыванием в этом госпитале. По мнению врачебной комиссии, указанный недостаток не повлиял на исход болезни.
38. Наконец, в отношении периода нахождения сына заявителей в Окружном госпитале N 442 врачебная комиссия отметила ненадлежащее оформление медицинских документов (окончательный диагноз включал в себя два "конкурирующих" заболевания, а именно сочетанные травмы головы и живота, а также сотрясение мозга и синдром острого нефрита). Указанный недостаток, который не был причиной смерти сына заявителей, возник в результате объективных трудностей постановки диагноза ввиду тяжелого состояния пациента и просчетов, допущенных на предыдущих этапах лечения.
(c) Разъединение уголовных дел
39. Заявительница несколько раз жаловалась в различные военные органы и в органы прокуратуры на смерть ее сына, добиваясь возбуждения уголовного дела в отношении О., Д. и врачей, лечивших его в период с 3 по 19 сентября 2005 г. В частности, она утверждала, что отказ О. в разрешении ее сыну посетить врача до 3 сентября 2005 г., избиение ее сына в больнице 10 сентября 2005 г. и последующая неэффективная медицинская помощь стали причиной его смерти.
40. 10 ноября 2005 г. старший следователь военной прокуратуры Выборгского гарнизона допросил врача Ко., хирурга, который дежурил в реанимационном отделении Окружного госпиталя N 442, когда 12 сентября 2005 г. туда был доставлен сын заявителей. Врач Ко. показал, что сын заявителей находился в очень тяжелом состоянии: он был без сознания и с трудом дышал. В ходе осмотра при поступлении в госпиталь в медицинских документах были зафиксированы гематома в области поясницы и отечность лица. Других повреждений обнаружено не было. В то же время врач Ко. отметил, что черепно-мозговая травма сына заявителей, указанная в его истории болезни, не была подтверждена в ходе последующих медицинских осмотров.
41. 18 ноября 2005 г. военный прокурор выделил из материалов уголовного дела по факту избиения Д. сына заявителей материалы, относящиеся к смерти сына заявителей. Ссылаясь на результаты вскрытия, военный прокурор сделал вывод об отсутствии причинно-следственной связи между смертью сына заявителей и его телесными повреждениями, полученными в результате побоев (гематома под глазом сына заявителей и кровоподтек на переносице). В дополнение к этому старший следователь подчеркнул, что объективные медицинские данные, инструментальный и хирургический анализ, вскрытие и гистологические исследования не подтвердили наличие у сына заявителей закрытой травмы живота, ушибов правой почки и передней брюшной стенки, ушиба мягких тканей правой части поясничной области или забрюшинной гематомы. Выделенные материалы дела были направлены другому военному прокурору.
(d) Производство по уголовному делу по факту избиения сына заявителей военнослужащим Д.
42. 13 декабря 2005 г. Выборгский гарнизонный военный суд, заслушав показания свидетелей, которые подтвердили, что 10 сентября 2005 г. Д. нанес сыну заявителей несколько ударов по спине и голове, и изучив медицинские документы, фиксирующие гематому под правым глазом сына заявителей и кровоподтек на переносице, признал Д. виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений с сыном заявителей и в причинении вреда чести и достоинству последнего. Военный суд приговорил Д. к одному году лишения свободы, заменив наказание на два года условно. В суде Д. показал, что несколько раз ударил сына заявителей по спине, но отрицал, что бил его по голове.
43. Военный суд также частично удовлетворил иск заявителей о возмещении вреда и присудил им 5 000 (пять тысяч) рублей в качестве компенсации морального вреда.
44. В отсутствие обжалования приговор вступил в силу 24 декабря 2005 г. Заявители объяснили свой отказ обжаловать приговор от 13 декабря 2005 г. отсутствием до 8 ноября 2006 г. каких-либо научных данных, подтверждающих, что травмы, нанесенные Д. их сыну, повлияли на течение его болезни.
2. Доследственная проверка в отношении причин смерти сына заявителей
45. После выделения соответствующих материалов дела (см. выше § 41) военный прокурор инициировал доследственную проверку в отношении причин смерти сына заявителей. Он назначил проведение дополнительной комплексной судебно-медицинской экспертизы истории болезни сына заявителей.
(a) Заключение судебно-медицинской экспертизы N 1 м/д
46. Комиссии судебно-медицинских экспертов в составе пяти военных специалистов, ведущих экспертов в различных областях медицины, было поручено оценить качество медицинской помощи, оказанной сыну заявителей, когда он обращался к врачам-специалистам во время прохождения военной службы.
47. Спустя неделю экспертная комиссия подготовила заключение N 1 м/д, в котором подтвердила причину смерти сына заявителей, указанную в протоколе вскрытия N 56/05, и отметила отсутствие доказательств оказания недостаточной или неправильной медицинской помощи, которая могла бы повлиять на течение болезни сына заявителей и привести к его смерти.
(b) Отказ в возбуждении уголовного дела от 19 декабря 2005 г.
48. 19 декабря 2005 г. прокурор, процитировав длинный перечень медицинских заключений, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы N 1 м/д и некое экспертное заключение N 13 м/д, которое не было представлено Европейскому Суду, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении врачей-специалистов, которые участвовали в лечении сына заявителей после 3 сентября 2005 г. Следователь установил, что доказательства совершения преступления отсутствовали, приведя следующие доводы:
"Согласно экспертному заключению N 13 м/д (в отношении комплексной судебно-медицинской экспертизы трупа, проведенной на основании медицинских документов), в период лечения [сына заявителей] в медицинской роте войсковой части N 02511 с 3 по 10 сентября 2005 г. диагноз был поставлен неправильно, поскольку основное заболевание не было диагностировано.
Этому способствовал тот факт, что лечащие врачи С. и М. не взяли клинический анализ мочи.
При появлении симптомов острой почечной недостаточности 10 сентября 2005 г. пациент в тот же день был переведен в Выборгский гарнизонный военный госпиталь войсковой части N 52193.
Принимая во внимание указанные выше [факты], экспертная комиссия считает, что ненадлежащая медицинская помощь, оказанная в медицинской роте войсковой части N 02511, не повлияла на исход болезни и не имеет прямой причинно-следственной связи со смертью [сына заявителей].
Когда [сын заявителей] находился на стационарном лечении в Выборгском гарнизонном военном госпитале... с 10 по 12 сентября 2005 г., его лечащий врач Ф. допустил еще одну ошибку при постановке диагноза. В частности, он не смог диагностировать основное заболевание (острый тубулоинтерстициальный нефрит [заболевание, при котором воспаляются пространства между почечными канальцами (маленькими трубочками), что снижает функцию почек]).
При этом, хотя основное заболевание не было диагностировано, были установлены его осложнения (острая почечная недостаточность и двусторонняя пневмония). Был проведен целый ряд диагностических мероприятий. Закрытая черепно-мозговая травма была неправильно диагностирована ввиду наличия неврологических симптомов, вызванных не травматическими изменениями, а интоксикацией, развившейся на фоне острой почечной недостаточности и сопутствующей пневмонии. Когда состояние здоровья пациента ухудшилось в результате прогрессирующей острой почечной недостаточности, его в течение суток перевели в Окружной госпиталь N 442 для дальнейшего лечения. Несмотря на то что основное заболевание не было диагностировано [в Выборгском гарнизонном военном госпитале], экспертная комиссия полагает, что вышеупомянутая ошибка не повлияла на исход болезни и не имела причинно-следственной связи со смертью [сына заявителей].
Когда [сын заявителей] находился в Окружном госпитале N 442 с 12 по 19 сентября 2005 г., его лечащие врачи А., К. и Ч. поставили неправильный диагноз, поскольку [они] не диагностировали основное заболевание; однако лечение [сына заявителей] было проведено правильно (так как были диагностированы осложнения). Пациент был помещен в отделение интенсивной терапии, и ему дважды (12 и 13 сентября 2005 г.) был проведен гемодиализ, который считается основной [процедурой] в лечении острой почечной недостаточности. Таким образом, по мнению экспертной комиссии, несмотря на то что основное заболевание не было диагностировано, лечение пациента в Окружном госпитале N 442 было проведено правильно. Ошибка при постановке диагноза в виде неспособности диагностировать основное заболевание в Окружном госпитале N 442 не повлияла на исход болезни и не имела причинно-следственной связи со смертью.
Лечение, проведенное на каждом этапе, не имело противопоказаний и было правильным. Однако, принимая во внимание общее состояние здоровья пациента, когда он поступил на лечение в Выборгский гарнизонный военный госпиталь... 10 сентября 2005 г., необходимо подчеркнуть, что показания для гемодиализа имелись уже на 10 сентября 2005 г., то есть за два дня до фактического проведения гемодиализа.
При оценке недостатков оказанной медицинской помощи необходимо учитывать тот факт, что у [сына заявителей] было редкое заболевание почек, которое имело атипичное и тяжелое развитие. Острый тубулоинтерстициальный нефрит сопровождался некрозом эпителия почечных канальцев и острой почечной недостаточностью. Кроме того, имело место серьезное осложнение в виде острой двусторонней фиброзно-септической пневмонии и неправильной истории болезни (как сообщил сам пациент), что подчеркивали врачи (предполагаемый ушиб почек, который впоследствии не подтвердился). Также необходимо отметить, что даже при неосложненном остром тубулоинтерстициальном нефрите правильный диагноз обычно ставится на основе биопсии (микроскопического исследования пунктата почки, взятого при жизни пациента). В настоящем случае, принимая во внимание степень тяжести состояния пациента, было сложно провести вышеупомянутую диагностическую процедуру, поскольку это могло повлечь за собой дальнейшее ухудшение состояния здоровья пациента.
Ни один из лекарственных препаратов, которые были предписаны [сыну заявителей] в период его стационарного лечения, не мог вызвать у него острый интерстициальный нефрит, поскольку с момента их введения до развития болезни прошло более трех месяцев.
Таким образом, при постановке диагноза и лечении [сына заявителей] врачи С., М., Ф., А., К. и Ч. несут ответственность за указанные выше недостатки, выявленные в ходе экспертиз. Следовательно, [они] ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности, и в их действиях содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем не менее, принимая во внимание тот факт, что указанные недостатки не имели причинно-следственной связи со смертью [сына заявителей] в результате острого тубулоинтерстициального нефрита, необходимо сделать вывод о том, что халатность врачей не повлекла за собой негативных последствий по смыслу статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно смерть человека; следовательно, в их действиях нет признаков уголовного преступления".
49. 27 декабря 2005 г. заявители получили письмо от исполняющего обязанности заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа, в котором сообщалось о дисциплинарных мерах, принятых в отношении капитана О. и капитана медицинской роты Б. Заместитель командующего войсками подчеркнул, что оба офицера были лишены своих званий ввиду халатности и неспособности должным образом организовать военную службу в воинской части, находящейся под их командованием. Кроме того, капитану О. было запрещено работать с личным составом.
(c) Возобновление доследственной проверки
50. 17 января 2006 г. заявители были извещены о том, что 13 января 2006 г. постановление от 19 декабря 2005 г. было отменено и была назначена новая доследственная проверка. Такое решение было принято потому, что предыдущая проверка оказалась неполной, так как не проводилась оценка качества медицинской помощи, оказанной их сыну в медицинских ротах войсковых частей N 02511 и 33568.
51. В конце января 2006 года было назначено проведение еще одной дополнительной судебно-медицинской экспертизы.
(d) Заключение судебно-медицинской экспертизы от 17 марта 2006 г. и второй отказ в возбуждении уголовного дела
52. 17 марта 2006 г. восемь врачей-специалистов Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской Федерации подготовили совместное заключение, в целом подтверждающее выводы, изложенные в экспертном заключении N 13 м/д. В частности, вновь отметив недостатки при постановке диагноза на каждом этапе лечения сына заявителей после 3 сентября 2005 г., эксперты пришли к выводу о том, что неспособность диагностировать основное заболевание не являлась причиной его смерти, поскольку лечение было "надлежащим, правильным, патогенетическим и симптоматическим и было направлено на устранение осложнений заболевания почек (острой почечной недостаточности и пневмонии), которые угрожали жизни [сына заявителей]". Одновременно с этим эксперты отметили, что следственные органы должны были установить, почему общий анализ крови и мочи сына заявителей не был взят сразу после его поступления в медицинскую роту 3 сентября 2005 г. Эксперты отказались отвечать на вопросы следователя о том, можно ли было избежать смерти сына заявителей, если бы его болезнь была правильно и своевременно диагностирована врачом-специалистом и если бы недостатки лечения отсутствовали. Эксперты посчитали данные вопросы гипотетическими и выходящими за рамки их компетенции.
53. Основные выводы экспертов гласят:
"Острый нефрит развился не позднее 11 сентября 2005 г., что подтверждается медицинскими данными о появлении в этот период олигурии (объем мочеиспускания уменьшился до 100 мл в течение 12 часов.
При обследовании не было установлено объективных... симптомов ушиба почки. Это подтверждается отсутствием морфологических макро- и микроскопических признаков ушиба почек (кровоподтеков, разрывов почек), отсутствием кровоизлияний в околопочечную область и мягкие ткани спины, которые при их сформированности могли бы свидетельствовать об ушибе почки 10 сентября 2005 г...).
Тот факт, что изменения в почках [сына заявителей] возникли не в результате ушиба, а в результате заболевания, подтверждается:
результатами лабораторных и инструментальных исследований (анализы крови и мочи, эхография, спиральная компьютерная томография...), проведенных в период с 9 по 19 сентября 2005 г., которые выявили... увеличение размеров почек, нарушение их функции...
морфологическими данными - макроскопические (белые почки с резким дефицитом крови в корковом слое и обилием конусов почек).
/.../
Причиной смерти [сына заявителей] стало заболевание, а именно острый тубулярный интерстициальный нефрит, осложненный развитием острой почечной недостаточности и... пневмонии, которые стали непосредственной причиной его смерти. Причину возникновения острого тубулярного интерстициального нефрита установить не удалось ввиду отсутствия объективных симптомов. Невозможно исключать инфекционную природу этого заболевания ввиду наличия клинических данных о жалобах на боли в животе, рвоту и диарею.
/.../
В период с 3 по 10 сентября 2005 г. [сыну заявителей]... был поставлен диагноз: приступ хронического гастрита.
Острый тубулярный интерстициальный нефрит на этой стадии не был диагностирован либо по причине того, что на соответствующий момент времени это заболевание еще не развилось, либо по причине того, что не был взят клинический анализ мочи.
Следует отметить, что... имеются сведения о том, что анализы крови и мочи были назначены. Только в результате расследования можно определить, почему указанные анализы не были проведены.
/.../
Медицинская помощь, которая оказывалась сыну [заявителей] на всех этапах его лечения в медицинской роте войсковой части N 02511, в [Выборгском гарнизонном военном госпитале] и [в Окружном госпитале N 442], не имела противопоказаний и не оказала негативного влияния на состояние его [здоровья]; [она] не привела к ухудшению его состояния и не являлась причиной его смерти. Однако проведенное лечение не смогло предотвратить летальный исход вследствие развития серьезных осложнений основного заболевания - острого тубулоинтерстициального нефрита.
/.../
Единственной причиной смерти [сына заявителей] стал острый тубулярный интерстициальный нефрит, осложненный развитием острой почечной недостаточности и острой двусторонней фиброзно-септической пневмонии, которые явились непосредственной причиной его смерти.
Основными [факторами] исхода болезни стали характер и степень тяжести самого быстро прогрессирующего заболевания (острый тубулоинтерстициальный нефрит) и развившиеся серьезные осложнения".
54. 3 февраля 2006 г. военный следователь допросил Б., который являлся командиром медицинской роты войсковой части N 02511 в сентябре 2005 года. Б. показал, что в период с 3 по 10 сентября 2005 г., когда сын заявителей находился под наблюдением в медицинской роте, общие анализы крови и мочи не проводились, поскольку лаборант находился в ежегодном отпуске, а анализы не были срочными ввиду диагноза сына заявителей на соответствующий момент времени. При этом Б. признал, что после госпитализации сына заявителей врач, осматривавший его первоначально, включил эти анализы в перечень процедур, которые необходимо было провести. Б. также отметил, что 7 сентября 2005 г. сын заявителей был доставлен в госпиталь другой войсковой части для проведения гастродуоденоскопии. Однако по неизвестным причинам она не была проведена. По словам Б., лечащий врач сына заявителей осматривал его 5, 7 и 9 сентября 2005 г. и назначил лечение, которое предусматривало только специальную диету, прием поливитаминов и дротаверина (спазмолитический препарат).
55. В неустановленную дату военные органы отказали в возбуждении уголовного дела по факту смерти сына заявителей.
(e) Возобновление доследственной проверки во второй раз
56. В мае 2006 года заявители были извещены о том, что на основании их жалоб проведение доследственной проверки было возобновлено 28 апреля 2006 г. и была назначена еще одна судебно-медицинская экспертиза истории болезни их сына.
(f) Заключение гражданской судебно-медицинской экспертизы от 8 ноября 2006 г. и прекращение доследственной проверки в третий раз
57. 8 ноября 2006 г., изучив все материалы уголовного дела, в том числе результаты дисциплинарного производства, постановления следователей и полный комплект медицинских документов, включая предыдущие экспертные заключения, Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета по здравоохранению Ленинградской области завершило проведение экспертизы, в котором приняли участие восемь экспертов - ведущих гражданских специалистов, работающих в различных медицинских академиях и учреждениях г. Санкт-Петербурга. В экспертном заключении N 451/к содержались следующие выводы:
"Вышеизложенное позволяет экспертной комиссии сделать вывод о том, что окончательно диагностированная болезнь [сына заявителей] началась в конце августа 2005 года...
В настоящем деле невозможно установить, что повредило почки [сына заявителей], поскольку отсутствуют доказательства того, что он контактировал с агрессивными химическими веществами (растворителями, антифризом [или] тяжелыми металлами), источниками радиации и так далее. Обширная судебно-химическая экспертиза биологических образцов тела [сына заявителя] не проводилась ни при его жизни (на начальных стадиях болезни), ни после его смерти. Развитие серьезной почечной недостаточности и гемодиализ оказали существенное негативное воздействие на исходную морфологическую картину изменений почек, которые обычно выявляются в ходе биопсии на ранних стадиях, пока пациент еще жив. Контроль мочи и биохимических характеристик крови был установлен только после 10 сентября 2005 г...
Экспертная комиссия считает непродуктивными попытки опровергнуть или поставить под сомнение тот факт, что [сын заявителей] получил телесные повреждения утром 10 сентября 2005 г. Данный факт объективно подтверждается материалами дела (показаниями [сына заявителей], [результатами] дисциплинарного производства), клиническими данными (многочисленными записями в медицинских документах, подтверждающими наличие ушиба, результатами рентгенологического исследования), макроморфологическими данными (кровоизлиянием размером 7 на 6 [сантиметров] на задней поверхности нижней части левой почки) и микроморфологическими данными (наличием эритроцитов и лимфоцитов в околопочечной клеточной ткани слева). Ушиб поясничной области пациента... сопровождался кровоизлиянием в околопочечную клеточную ткань с последующим отеком, нарушением кровоснабжения почек и вытеканием мочи в результате внешнего сдавливания мочеиспускательного канала. Это обстоятельство (ушиб поясничной области) усугубило развитие острой почечной недостаточности (именно после событий утром 10 сентября 2005 г. состояние [здоровья] [сына заявителей] резко ухудшилось, и впервые появилась макрогематурия) и повлияло на последующий летальный исход болезни...
Смерть [сына заявителей] наступила в результате заболевания почек, аналогичного острому тубулоинтерстициальному нефриту... ушиб поясничной области 10 сентября 2005 г. стал отрицательным фактором, усугубившим заболевание почек.
/.../
1. В период пребывания [сына заявителей] в медицинской роте с 3 по 10 сентября 2005 г. наличие основного заболевания (почечной недостаточности) не предполагалось; оно не было диагностировано вплоть до 10 сентября 2005 г., когда в моче пациента обнаружилось большое количество крови (макрогематурия), которое было видно невооруженным глазом. На последующих этапах стационарного обследования и лечения основное внимание уделялось почкам, что в целом соответствовало патологии пациента. Неправильный диагноз был поставлен по причине недостаточного обследования пациента (в войсковой части N 02511) и впоследствии из-за степени тяжести быстро развившихся сопутствующих осложнений и сложности диагностирования острого тубулоинтерстициального нефрита при их наличии, поскольку для диагностирования [данного заболевания] обычно требуется биопсия почки. Следует отметить, что первоначальный диагноз: острый панкреатит, который был зафиксирован в истории болезни пациента 3 сентября 2005 г., требовал немедленной госпитализации пациента и проведения обширных обследований (в первую очередь крови и мочи); этого не было сделано. Длительная восьмидневная задержка в диагностировании патологического процесса и отсутствие впоследствии необходимого лечения отрицательно сказались на исходе [болезни].
2. В медицинской роте войсковой части [N 02511] не было проведено надлежащее обследование [сына заявителей]... Обследование пациента в [Выборгском гарнизонном военном госпитале] и [в Окружном госпитале N 442] не вызывает нареканий.
3. Лечение, которое было предоставлено [сыну заявителей] в медицинской роте, соответствовало ошибочному диагнозу: гастрит, который сопровождался симптомами основного заболевания (почечной недостаточности). Такое лечение не имело противопоказаний, но не могло предотвратить прогрессирование почечной недостаточности...
/.../
6. Лечение, предоставленное [сыну заявителей] в период с 3 по 19 сентября 2005 г., не привело к ухудшению состояния его здоровья и к его смерти.
7. Основными [факторами] исхода болезни [сына заявителей] были степень тяжести и злокачественный характер патологического процесса в почках, который усугубился ушибом поясничной области. Несвоевременное оказание медицинской помощи следует рассматривать как сопутствующий негативный фактор в истории болезни".
58. Экспертная комиссия не смогла ответить на вопросы следователя относительно прогноза дальнейшего течения болезни сына заявителей, если бы ему была оказана надлежащая и своевременная медицинская помощь.
59. Узнав о проведении экспертизы, заявительница обратилась в следственные органы с просьбой предоставить ей копию экспертного заключения. В письме от 21 ноября 2006 г. она была извещена о том, что ей не могут быть предоставлены копии процессуальных документов, поскольку она не является стороной производства. Такое право можно реализовать только в ходе уголовного производства, которое не было возбуждено по факту смерти сына заявителей, и воспользоваться им могут только стороны такого производства и их представители.
60. На следующий день старший следователь военной прокуратуры, ссылаясь на экспертные заключения, в том числе заключение N 451/к, прекратил доследственную проверку, отказав в возбуждении уголовного дела в отношении врачей, лечивших сына заявителей.
(g) Возобновление доследственной проверки в третий раз
61. 1 декабря 2006 г. заявители были извещены об отмене решения от 22 ноября 2006 г. и о проведении дополнительной доследственной проверки по факту смерти их сына. В рамках дополнительной доследственной проверки необходимо было исследовать, как повлияли на состояние его здоровья несвоевременная медицинская помощь на начальных этапах лечения и ушибы поясничной области, полученные им 10 сентября 2005 г. В указанных целях было назначено проведение новой экспертизы истории болезни сына заявителей военно-медицинскими экспертами.
(h) Заключение судебно-медицинской экспертизы от 19 февраля 2007 г. и окончательное прекращение доследственной проверки 10 марта 2007 г.
62. 19 февраля 2007 г. 93-й Государственный центр судебно-медицинской экспертизы Ленинградского военного округа подготовил заключение N 7 м/д, которое полностью подтверждало выводы военно-медицинских экспертов в предыдущих заключениях. Военные эксперты сочли невозможным утверждать, что клинические анализы крови и мочи на более раннем этапе могли бы гарантировать постановку правильного диагноза и выздоровление сына заявителей. Кроме того, военные эксперты не согласились с гражданскими экспертами в том, что сын заявителей получил травму почек, которая повлияла на его заболевание. Они ссылались на отсутствие кровоподтека на коже, неправильную форму кровоизлияния; отсутствие морфологических, макроскопических и микроскопических признаков ушибов почек и, наоборот, наличие симптомов острого заболевания почек и общего геморрагического синдрома внутренних органов, в том числе головного мозга; время кровоизлияния (от одного до трех дней до смерти и, следовательно, слишком поздно для того, чтобы являться результатом инцидента 10 сентября 2005 г.); объективные лабораторные и инструментальные исследования и анализы. Они также подчеркнули, что болезнь проявилась только 10 сентября 2005 г., а не в конце августа 2005 года, как полагали гражданские эксперты.
63. 10 марта 2007 г. старший следователь военной прокуратуры Выборгского гарнизона отказал в возбуждении уголовного дела, посчитав, что в действиях или бездействии врачей отсутствовали признаки преступного деяния. Постановление было идентично постановлению, вынесенному органами военной прокуратуры 1 декабря 2006 г., за исключением дополнительной страницы, на которой были изложены последние выводы военных экспертов.
3. Судебное производство в связи с отказом в возбуждении уголовного дела от 10 марта 2007 г.
64. Спустя две недели заявительница обжаловала постановление от 10 марта 2007 г. в Выборгский гарнизонный военный суд, жалуясь на неэффективность, неполноту и затянутость доследственной проверки по факту смерти ее сына. В частности, заявительница подчеркнула, что военные следователи ссылались исключительно на выводы военных экспертов, игнорируя выводы гражданских экспертов. По мнению заявительницы, следователи ограничили доследственную проверку повторным изложением заключений экспертов без каких-либо попыток разрешить противоречия между различными версиями и принять во внимание другие относящиеся к делу факторы, которые могли повлиять на исход болезни ее сына.
65. 11 апреля 2007 г. Выборгский гарнизонный военный суд отклонил жалобу заявительницы, сочтя постановление следователя законным и обоснованным. Военный суд был убежден экспертными заключениями, согласно которым причинно-следственная связь между несвоевременной и ненадлежащей медицинской помощью, оказанной сыну заявителей на начальных этапах лечения, и его смертью отсутствовала.
66. 31 мая 2007 г. Ленинградский окружной военный суд оставил решение от 11 апреля 2007 г. без изменения.
B. Гражданский иск
67. Заявители предъявили гражданский иск к войсковой части N 02511.
68. 24 апреля 2008 г. Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга отклонил их требования, посчитав, что заявители не доказали вину ответчика в смерти их сына. Суд сослался, в частности, на отказ в возбуждении уголовного дела от 10 марта 2007 г. ввиду отсутствия corpus delicti, что было подтверждено военными судами. Суд подтвердил, что военный следователь установил наличие ряда недостатков при постановке диагноза и лечении сына заявителей офицерами медицинской службы С. и М. Следовательно, они ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности. Однако экспертиза, проведенная в ходе доследственной проверки, показала, что данные недостатки не имели причинно-следственной связи со смертью сына заявителей. Таким образом, требования заявителей были необоснованными.
69. Заявители обжаловали это решение, заявив, в частности, что их сын был здоров, когда его призвали на военную службу; что ему изначально было отказано в возможности своевременно обратиться к врачу; что лабораторные анализы крови и мочи не проводились; что он получил ушиб почки, который отрицательно повлиял на исход болезни; и что эксперты установили недостатки в оказании ему медицинской помощи, в том числе запоздалое лечение и неправильный диагноз. Заявители считали, что изложенные выше факторы свидетельствовали об отсутствии у их сына доступа к своевременной и надлежащей медицинской помощи.
70. 19 июня 2008 г. Санкт-Петербургский городской суд оставил решение от 24 апреля 2008 г. без изменения. В частности, суд отметил, что выявленные недостатки не являлись непосредственной причиной смерти сына заявителей, как было установлено экспертами и постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти от 10 марта 2007 г.
ПРАВО
I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ
71. Заявители жаловались в рамках статьи 2 Конвенции на то, что смерть их сына наступила в период прохождения им военной службы, и на отсутствие эффективного и своевременного расследования факта его смерти. Статья 2 Конвенции предусматривает:
"1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом...".
A. Приемлемость жалобы для рассмотрения по существу
72. Европейский Суд отмечает, что настоящая жалоба не является явно необоснованной или неприемлемой по каким-либо иным основаниям, перечисленным в статье 35 Конвенции. Следовательно, она должна быть объявлена приемлемой для рассмотрения по существу.
B. Существо жалобы
1. Доводы сторон
(a) Заявители
73. Заявители утверждали, что власти Российской Федерации не приняли надлежащие меры по охране жизни их сына, который находился под их юрисдикцией, аналогично лицам, содержащимся под стражей (заявители ссылались на Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Салман против Турции" ( v. Turkey), жалоба N 21986/93, § 99, ECHR 2000-VII, и Постановление Европейского Суда по делу "Кинан против Соединенного Королевства" (Keenan v. United Kingdom), жалоба N 27229/95, §§ 89 и 91, ECHR 2001-III). Они утверждали, что их сын был здоров, когда его призвали на военную службу, и что у него не было заболевания почек. Когда он заболел в августе 2005 года, власти не обеспечили ему своевременный доступ к медицинской помощи. Кроме того, в течение восьми дней после его поступления в медицинскую роту надлежащее медицинское обследование не проводилось, и он не получал должного лечения. Медицинская помощь в целом была ненадлежащей, учитывая недостаточность питания и технических средств, например автомобилей. Более того, несмотря на то что сын заявителей уже был прикован к больничной койке, его избил другой солдат. Заявители сомневались в выводах экспертов по ряду причин. Во-первых, причины заболевания почек окончательно не были установлены. В то время как травматическое происхождение заболевания почек было отвергнуто, эксперты не оценили влияние этой травмы на исход болезни. Хотя эксперты признали несвоевременность и другие недостатки в оказании медицинской помощи сыну заявителей, они были отвергнуты как не являвшиеся причиной его смерти.
74. Заявители также утверждали, что расследование смерти их сына не было эффективным. В частности, по факту его смерти не было проведено какого-либо расследования, а была проведена только доследственная проверка. Расследование проводилось по факту предполагаемого нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности согласно статье 335 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с избиением сына заявителей военнослужащим Д., но данное расследование не охватывало смерть сына заявителей. Даже доследственная проверка была инициирована только 18 ноября 2005 г., то есть спустя полных два месяца после смерти сына заявителей и только на основании жалоб заявителей. Последующие судебно-медицинские экспертизы не смогли установить причину заболевания почек; какие-либо химические исследования биологических образцов тела сына заявителей, которые позволили бы установить причину заболевания почек, не проводились. Доследственная проверка выявила ряд недостатков в истории болезни, но следователь отказал в возбуждении уголовного дела. Доследственная проверка не была эффективной, поскольку она не смогла обеспечить права заявителей - они не имели статуса потерпевших, поскольку этот статус мог быть присвоен только в рамках уголовного производства. В отсутствие статуса потерпевших заявители не могли получить доступ к материалам дела или иным образом воспользоваться такими правами, как право задавать свои вопросы экспертам для проведения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, 21 ноября 2005 г. им было отказано в предоставлении копии заключения экспертизы на основании того, что они не были признаны потерпевшими.
75. Наконец, заявители утверждали, что, даже если Европейский Суд не всегда требовал привлечения к уголовной ответственности в связи с халатностью врачей, им не были доступны какие-либо иные эффективные средства для установления соответствующих фактов и привлечения к ответственности причастных к делу лиц. Так, им не было известно о каких-либо дисциплинарных производствах в отношении соответствующих офицеров медицинской службы. Кроме того, их гражданский иск к войсковой части, в которой служил их сын, был отклонен со ссылкой, в частности, на отказ в возбуждении уголовного дела.
(b) Власти Российской Федерации
76. Власти Российской Федерации утверждали, что всего было проведено семь различных медицинских экспертиз по факту смерти сына заявителей. Все эксперты пришли к выводу о том, что врачи С. и М. допустили незначительные ошибки, например не сделали клинический анализ мочи. По мнению властей Российской Федерации, при оценке этого недостатка следует принимать во внимание, что сын заявителей страдал от редкого заболевания почек, которое приняло атипичное и опасное течение. Состояние его здоровья ухудшилось из-за пневмонии и его истории болезни. Власти Российской Федерации утверждали, что для правильной постановки диагноза сыну заявителей была необходима биопсия, но ее невозможно было провести, учитывая ухудшающееся состояние пациента. Опираясь на научно доказанные, аргументированные и однозначные выводы экспертов, власти Российской Федерации утверждали, что незначительные недостатки в постановке диагноза не являлись непосредственной причиной смерти сына заявителей. Лечение, которое он получал на всех этапах, не имело противопоказаний, было своевременным, правильным и полноценным. На основании вышеизложенного власти Российской Федерации утверждали, что сыну заявителей была оказана надлежащая медицинская помощь. Как было установлено в ходе доследственной проверки, смерть сына заявителей была вызвана болезнью, и никто не несет ответственности за такой исход.
77. Власти Российской Федерации также утверждали, что они выполнили процессуальное обязательство по расследованию смерти сына заявителей. В частности, 19 сентября 2005 г. было возбуждено уголовное дело по факту избиения сына заявителей по статье 335 Уголовного кодекса Российской Федерации. Две судебно-медицинские экспертизы не установили связи между избиением и смертью сына заявителей. Эксперты изучили, но отклонили возможное травматическое происхождение заболевания почек. Другие доказательства жестокого обращения с сыном заявителей отсутствовали. Материалы, касающиеся смерти сына заявителей, были выделены из уголовного дела в отношении Д., а затем по факту его смерти была проведена отдельная доследственная проверка. Указанная доследственная проверка была проведена независимым органом - военной прокуратурой - и была полной и объективной. В рамках доследственной проверки было проведено пять судебно-медицинских экспертиз. По мнению экспертов, незначительные ошибки при постановке диагноза, которые имели место, не являлись непосредственной причиной смерти сына заявителей, поскольку лечение, которое он получал на всех этапах, не имело противопоказаний и было своевременным, правильным и полным. Причиной его смерти стал острый тубулоинтерстициальный нефрит, осложненный острой почечной недостаточностью и острой пневмонией.
2. Мнение Европейского Суда
(a) Материально-правовой аспект
78. Применимые правовые принципы были кратко изложены в Постановлении Европейского Суда по делу "Мурадян против Армении" (Muradyan v. Armenia) от 24 ноября 2016 г., жалоба N 11275/07, §§ 132 - 133); и в Постановлении Европейского Суда по делу "Мустафаев против Азербайджана" (Mustafayev v. Azerbaijan) от 4 мая 2017 г., жалоба N 47095/09, §§ 52 - 54). В указанных Постановлениях Европейский Суд напомнил, что статья 2 Конвенции налагает на государство обязательство по защите жизни частных лиц, находящихся под его юрисдикцией, в частности лиц, содержащихся под стражей, и лиц, призванных на военную службу. Данное обязательство также предполагает обязательство предоставлять им необходимую медицинскую помощь для охраны их жизней.
79. Обращаясь к настоящему делу, Европейский Суд отмечает, что сын заявителей был здоров на момент призыва на военную службу.
80. Европейский Суд также отмечает, что, по словам заявителей, их сын заболел в августе 2005 года и безуспешно просил разрешения обратиться к врачу как минимум дважды (см. выше §§ 7 - 8). Только 3 сентября 2005 г., когда состояние здоровья сына заявителей ухудшилось еще сильнее, ему разрешили обратиться к врачу. Как следует из истории болезни, составленной после поступления сына заявителей в медицинскую роту 3 сентября 2005 г., он болел в течение предыдущих трех дней (см. выше § 9). На основе этих документов гражданские эксперты пришли к выводу о том, что болезнь сына заявителей началась в конце августа (см. выше § 57). В более позднем заключении судебно-медицинской экспертизы военные эксперты поставили под сомнение данный вывод (см. выше § 62). Однако Европейскому Суду нет необходимости определять, появилось ли у сына заявителей заболевание почек в начале или в конце августа 2005 года. Этот вопрос должны были расследовать власти государства-ответчика. В связи с этим Европейский Суд отмечает, что отказ сыну заявителей в разрешении обратиться к врачу стал причиной дисциплинарного выговора в отношении соответствующих должностных лиц вооруженных сил, а именно старшего лейтенанта П. и капитана О. (см. выше § 27). Таким образом, задержка в предоставлении сыну заявителей доступа к медицинской помощи являлась фактом, и следственным органам было известно об этом. Однако ни следователь, ни эксперты не изучили последствия указанной задержки для исхода болезни сына заявителей.
81. В период после поступления сына заявителей в медицинскую роту с 3 по 10 сентября 2005 г. медицинские обследования, включая основные анализы крови и мочи, не проводились. Данный факт был установлен экспертами еще в ноябре 2005 года. Врачебная экспертная комиссия определила, что невыполнение указанных анализов способствовало смерти сына заявителей (см. выше § 36). Хотя другие эксперты позднее сомневались в том, что взятие анализов на более ранних стадиях или такие анализы крови и мочи, в отличие от биопсии, позволили бы поставить правильный диагноз и успешно вылечить болезнь сына заявителей (см. выше § 62), тот факт, что в течение восьми дней после его поступления в медицинскую роту какие-либо диагностические исследования не проводились, неоспорим. Вопрос о том, могут ли анализы крови и мочи гарантировать правильные диагноз и лечение, не является решающим с точки зрения обязательства властей по охране жизни, но в любом случае взятие таких анализов представляется разумным шагом. Объяснение врача медицинской роты, согласно которому анализы не проводились, поскольку лаборант был в отпуске (см. выше § 54), неприемлемо. Это лишь доказывает, что медицинская рота не была должным образом оборудована или укомплектована персоналом для оказания надлежащей медицинской помощи (см. Постановление Европейского Суда по делу "Магницкий и другие против Российской Федерации" (Magnitskiy and Others v. Russia) от 27 августа 2019 г., жалобы N 32631/09 и 53799/12 < 1 > , § 261). Данный факт подтверждается и тем, что сын заявителей был доставлен в госпиталь 10 сентября 2005 г. на личном автомобиле, поскольку других автомобилей не было (см. выше §§ 14 и 28).
< 1 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2019. N 12 (примеч. редактора).
82. Европейский Суд также отмечает, что в тот же период, с 3 по 10 сентября 2005 г., сын заявителей не получал какого-либо лечения, кроме поливитаминов и препаратов для лечения гастрита, которого у него не было. По мнению экспертов, такое лечение не имело противопоказаний, но и не было целесообразно (см. выше §§ 53 и 57).
83. Только вечером 10 сентября 2005 г., сына заявителей доставили в Выборгский гарнизонный военный госпиталь, и на следующий день было проведено некоторое обследование: ультразвуковое исследование, анализы крови и мочи, лапароскопия. Ему также проводили инфузионную, гемостатическую и антибактериальную терапию. Однако 12 сентября состояние здоровья сына заявителей ухудшилось, и он был переведен в Окружной госпиталь N 442 в бессознательном состоянии. Он скончался 19 сентября 2005 г., не приходя в сознание.
84. Таким образом, из 16 дней, проведенных сыном заявителей под медицинским наблюдением, в течение первых восьми дней у него не брали какие-либо анализы и не давали ему лекарственных препаратов, кроме поливитаминов и препаратов для лечения гастрита. Через день после того, как обследование и лечение наконец начались, сын заявителей потерял сознание, и его состояние стало критическим. Неделю спустя он скончался.
85. В таких обстоятельствах Европейский Суд считает, что, препятствуя доступу сына заявителей к медицинской помощи, а затем откладывая его надлежащие обследование, анализы и лечение, органы власти подвергли его жизнь опасности и не приняли необходимых мер для охраны его жизни.
86. Что касается утверждения властей Российской Федерации об отсутствии причинно-следственной связи между смертью сына заявителей и какими-либо недостатками в его лечении, Европейский Суд отмечает, что предметом его рассмотрения в настоящем деле является вопрос о том, выполнили ли власти Российской Федерации свое обязательство по охране его жизни, своевременно предоставив ему надлежащее лечение, а не наличие причинно-следственной связи, в котором власти Российской Федерации сомневаются (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Мустафаев против Азербайджана" (Mustafayev v. Azerbaijan), § 65; и упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Магницкий и другие против Российской Федерации" (Magnitskiy and Others v. Russia), § 264).
87. На основании вышеизложенного Европейский Суд приходит к выводу о том, что власти Российской Федерации необоснованно подвергли жизнь сына заявителей опасности, не предоставив ему своевременного доступа к надлежащей медицинской помощи. Таким образом, власти не выполнили свое позитивное обязательство по статье 2 Конвенции.
(b) Процессуальный аспект
88. Применимые правовые принципы были кратко изложены в Постановлении Европейского Суда по делу "Шумкова против Российской Федерации" (Shumkova v. Russia) от 14 февраля 2012 г., жалоба N 9296/06 < 2 > , §§ 106 - 109), а также, хотя и в другом контексте, в Постановлении Большой Палаты Европейского Суда по делу "Николае Вирджилиу Тэнасе против Румынии" (Nicolae Virgiliu v. Romania) от 25 июня 2019 г., жалоба N 41720/13 < 3 > , §§ 161 - 163); и в Постановлении Европейского Суда по делу "Вовк и Богданов против Российской Федерации" (Vovk and Bogdanov v. Russia) от 11 февраля 2020 г., жалоба N 15613/10 < 4 > , §§ 65 и 66.
< 2 > См.: там же. 2012. N 12 (примеч. редактора).
< 3 > См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2019. N 7 (примеч. редактора).
< 4 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2020. N 10 (примеч. редактора).
89. Европейский Суд отмечает, что в настоящем деле доследственная проверка была начата только 18 ноября 2005 г., то есть примерно через два месяца после смерти сына заявителей. Кроме того, власти неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела по факту смерти сына заявителей. После того как суд Российской Федерации оставил без изменения окончательный отказ от 10 марта 2007 г., уголовное расследование так и не было проведено.
90. Европейский Суд ранее указывал, что в контексте правовой системы Российской Федерации "доследственная проверка" сама по себе не может привести к наказанию виновных, поскольку возбуждение уголовного дела и уголовное расследование должны предшествовать выдвижению обвинений против предполагаемых виновных, что впоследствии может стать предметом разбирательства в суде (см. Постановление Европейского Суда по делу "Фанзиева против Российской Федерации" (Fanziyeva v. Russia) от 18 июня 2015 г., жалоба N 41675/08 < 1 > , § 53, с дополнительными ссылками; и Постановление Европейского Суда по делу "Трапезникова и другие против Российской Федерации" (Trapeznikova and Others v. Russia) от 1 декабря 2016 г., жалоба N 45115/09 < 2 > , §§ 34 - 36). Европейский Суд также постановил, что в отсутствие надлежащего уголовного расследования невозможно произвести весь комплекс следственных действий, включая допрос, очную ставку, обыск, изъятие и реконструкцию преступления (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Фанзиева против Российской Федерации" (Fanziyeva v. Russia), § 53, с дополнительными ссылками, и упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Трапезникова и другие против Российской Федерации" (Trapeznikova and Others v. Russia), §§ 34 - 36). Кроме того, отсутствие уголовного расследования существенно нарушает процессуальные права потерпевших в отношении расследования, в частности право подавать ходатайства, задавать вопросы экспертам или получать копии процессуальных решений (см. Постановление Европейского Суда по делу "Клейн и Александрович против Российской Федерации" (Kleyn and Aleksandrovich v. Russia) от 3 мая 2012 г., жалоба N 40657/04 < 3 > , § 57). Как показывает настоящее дело (см. выше § 59), заявители не были признаны потерпевшими, поэтому они не могли осуществить процессуальные права, связанные с этим статусом. Таким образом, доследственная проверка, проведенная по настоящему делу, не соответствовала и не могла соответствовать требованиям статьи 2 Конвенции в части процессуальных обязательств властей.
< 1 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2016. N 2 (примеч. редактора).
< 2 > См.: там же. 2017. N 11 (примеч. редактора).
< 3 > См.: Российская хроника Европейского Суда. 2012. N 4 (примеч. редактора).
91. Что касается гражданских, административных или дисциплинарных средств правовой защиты, доступных заявителям, Европейский Суд отмечает следующее. Хотя командиры сына заявителей, П. и О., были подвергнуты дисциплинарным взысканиям за то, что изначально они препятствовали доступу сына заявителей к медицинской помощи (см. выше § 27), соответствующее производство не касалось другого персонала или последующих периодов оказания медицинской помощи сыну заявителей. Таким образом, дисциплинарное производство само по себе в целом не установило обстоятельств, приведших к смерти сына заявителей. Кроме того, гражданский иск заявителей об установлении гражданской ответственности личного состава войсковой части, где служил их сын, был отклонен. Следует отметить, что суды Российской Федерации главным образом ссылались на отказ в возбуждении уголовного дела от 10 марта 2007 г. как на доказательство отсутствия вины в действиях личного состава войсковой части (см. выше §§ 68 и 70). Таким образом, представляется, что отказ в возбуждении уголовного дела также ослабил шансы заявителей на успех в гражданских судах, которые не устанавливали факты независимо в целях определения причины смерти и привлечения виновных к ответственности (см. Решение Европейского Суда по делу "Шовгуров против Российской Федерации" (Shovgurov v. Russia) от 25 августа 2015 г., жалоба N 17601/12 < 4 > , § 63).
< 4 > См.: там же. 2016. N 2 (примеч. редактора).
92. Отсутствие уголовного расследования или иных средств правовой защиты, которые могли бы в полной мере установить обстоятельства смерти сына заявителей, приводит Европейский Суд к выводу о том, что власти Российской Федерации не выполнили свое обязательство по проведению эффективного расследования.
93. Следовательно, имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуальном аспекте.
II. ИНЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ КОНВЕНЦИИ
94. Европейский Суд рассмотрел другие жалобы, поданные заявителями в рамках статей 3 и 13 Конвенции в отношении ампутированного пальца их сына и его избиения Д. Тем не менее, учитывая имеющиеся в его распоряжении материалы и в той степени, в которой указанные жалобы относятся к его компетенции, Европейский Суд полагает, что они не содержат признаков какого-либо нарушения прав и свобод, гарантированных Конвенцией или Протоколами к ней. Следовательно, жалоба в данной части должна быть отклонена как явно необоснованная в соответствии с подпунктом "a" пункта 3 и пунктом 4 статьи 35 Конвенции.
III. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ
95. Статья 41 Конвенции предусматривает:
"Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне".
A. Ущерб
96. Заявители совместно требовали выплаты 295 (двести девяносто пять) евро в качестве компенсации материального ущерба (расходы на погребение) и 100 000 (сто тысяч) евро в качестве компенсации морального вреда.
97. Власти Российской Федерации просили Европейский Суд отклонить требования заявителей, так как права заявителей в соответствии с Конвенцией не были нарушены.
98. Европейский Суд присуждает заявителям совместно 295 (двести девяносто пять) евро в качестве компенсации материального ущерба и 33 800 (тридцать три тысячи восемьсот) евро в качестве компенсации морального вреда, а также любой налог, который может быть начислен на указанные суммы.
B. Судебные расходы и издержки
99. Заявители также требовали выплаты 2 489 (две тысячи четыреста восемьдесят девять) евро в качестве компенсации расходов и издержек, понесенных в судах Российской Федерации и в Европейском Суде. Заявленные расходы и издержки в полном объеме были подтверждены соглашениями об оказании правовой помощи и платежными квитанциями.
100. Власти Российской Федерации отмечали, что подтверждающие документы заявителей не содержали разбивку по позициям, и, следовательно, их расходы не являлись необходимыми и разумными.
101. В соответствии с прецедентной практикой Европейского Суда заявитель имеет право на возмещение расходов и издержек только в той части, в которой было доказано, что они были действительно понесены, являлись необходимыми и разумными по размеру. В настоящем деле, принимая во внимание имеющиеся в его распоряжении документы и вышеуказанные критерии, Европейский Суд считает целесообразным присудить заявителям сумму в размере 2 489 (две тысячи четыреста восемьдесят девять) евро в качестве компенсации всех издержек, а также любой налог, который может быть начислен на указанную сумму.
C. Процентная ставка при просрочке платежей
102. Европейский Суд полагает, что процентная ставка при просрочке платежей должна определяться исходя из предельной кредитной ставки Европейского центрального банка плюс три процентных пункта.
На основании изложенного Суд единогласно:
1) объявил жалобы в рамках статьи 2 Конвенции, касающиеся смерти сына заявителей и расследования его смерти, приемлемыми для рассмотрения по существу, а жалобы в оставшейся части - неприемлемыми для рассмотрения по существу;
2) постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее материально-правовом аспекте;
3) постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуальном аспекте;
4) постановил:
(a) что власти государства-ответчика обязаны в течение трех месяцев со дня вступления настоящего Постановления в силу в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции выплатить заявителям совместно следующие суммы, подлежащие переводу в валюту государства-ответчика по курсу на день выплаты:
(i) 295 (двести девяносто пять) евро, а также любой налог, который может быть начислен на указанную сумму, в качестве компенсации материального ущерба;
(ii) 33 800 (тридцать три тысячи восемьсот) евро, а также любой налог, который может быть начислен на указанную сумму, в качестве компенсации морального вреда;
(iii) 2 489 (две тысячи четыреста восемьдесят девять) евро, а также любой налог, который может быть начислен на указанную сумму, в качестве компенсации судебных расходов и издержек;
(b) что с даты истечения указанного трехмесячного срока и до момента выплаты на указанные выше суммы должны начисляться простые проценты, размер которых определяется предельной кредитной ставкой Европейского центрального банка, действующей в период неуплаты, плюс три процентных пункта;
5) отклонил оставшуюся часть требований заявителей о справедливой компенсации.
Совершено на английском языке, и уведомление о Постановлении направлено в письменном виде 22 декабря 2020 г. в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Европейского Суда.
Секретарь
Секции Суда
МИЛАН БЛАШКО
Председатель
Палаты Суда
ПАУЛЬ ЛЕММЕНС